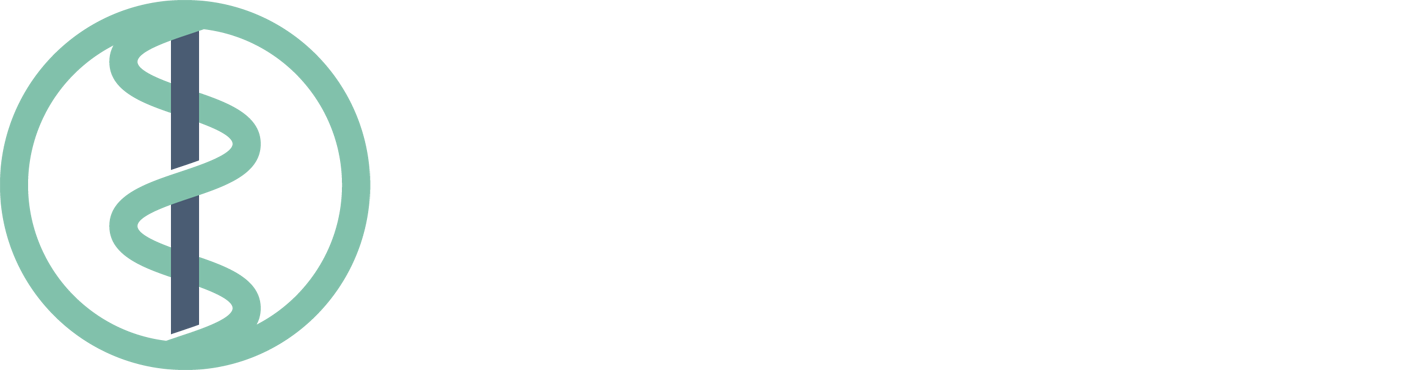Евгения Владимировна Цырлина: «Для меня важно не только вылечить, но и успокоить пациента»
Дата публикации: 14.11.2021
Евгения Владимировна Цырлина – один из старейших сотрудников НМИЦ. Она пересекалась с Николаем Николаевичем Петровым в коридорах, когда институт ещё располагался на Березовой аллее, помнит переезд учреждения в поселок Песочный и стояла у истоков вновь образованной лаборатории эндокринологии. Всю свою научную и врачебную жизнь она занимается исследованиями репродуктивной системы, а также гормональными нарушениями, связанными с противоопухолевым лечением. В свои 82 года Евгения Владимировна продолжает вести активную медицинскую практику – за время нашей беседы телефон доктора разрывался от звонков коллег и пациентов. Но это нисколько не помешало ей поделиться с нами самым ценным – своими воспоминаниями.
– Евгения Владимировна, вы родились в Ленинграде?
– Да, 3 января 1939 года в семье врачей. Мой отец, Владимир Григорьевич Вайнштейн, был одним из ведущих сотрудников в институте травматологии у Романа Романовича Вредена, а мать, Евгения Николаевна, заведовала глазным отделением больницы им. Куйбышева (ныне – Мариинская больница) на Литейном проспекте.
– В такой семье, наверное, не было выбора, кем стать, когда вырастешь?
– Не совсем так. У меня был любимый брат, старше на 11 лет – Шура. Закончил театральный институт, режиссерское отделение. А я была его верным спутником и слушателем: мы много гуляли, ходили на постановки. Когда пришло время выбирать институт, он посоветовал мне пойти учиться на киноинженера. Шел 1956 год. Долгожданный выпускной вечер, прогулка в белых платьях по Неве… я возвращаюсь домой, ложусь спать. Я спокойна и воодушевлена, у меня уже приготовлены документы: утром я должна была нести их в Ленинградский институт киноинженеров. И тут в мою комнату постучал папа. Он сказал тогда: «Ты вольна поступать, как ты хочешь, но я бы на твоём месте пошёл в медицинский институт, потому что это работа гораздо более надежная». Хочу отметить, что в нашей семье никогда не было давления, и к мнению родителей мы всегда прислушивались. Поэтому я пошла и поступила в Первый Ленинградский медицинский институт.
– Поступили с лёгкостью, без специальной подготовки?
– Тогда школа давала очень хорошую подготовку по всем предметам, а институт не требовал каких-то специальных знаний. Помню, что в аттестате у меня одна четвёрка, остальные пятёрки. Учиться было интересно. Но тогда нам всем казалось – заниматься надо непременно наукой, а не клиникой.
– Поэтому вы пришли в НИИ онкологии? Как это произошло?

– В институт онкологии я пришла на четвертом курсе медицинского, в 1960 году. В 1 ЛМИ приехал Вольфсон Ной Исаакович, ветеран ВОВ и тогда научный сотрудник лаборатории экспериментальных опухолей, руководителем которой был выдающийся ученый Николай Васильевич Лазарев. Ной Исаакович выступил с лекцией и пригласил молодежь заниматься научными исследованиями в институте онкологии. Мои приятели из группы, с которыми вместе планировали заниматься наукой, выбрали ЦНИИР. А я – институт онкологии.
– Кто был вашим наставником?
– Работать я начинала под руководством Салямона Леонида Самсоновича в лаборатории экспериментальных опухолей. Лабораторией, как уже говорилось, руководил замечательный ученый, Николай Васильевич Лазарев. Очень трудно разбрасываться такими эпитетами, но он действительно гениальный. По его идеям был создан целый ряд фармакологических препаратов, которые используются и сейчас. Он был замечательным учителем и любил своих учеников – у него их море. Тогда молодым специалистам было очень просто начать работать: тебе давали тему, мышей, крыс и всё, что полагалось. Наука поддерживалась. В 1962 году я закончила 1ЛМИ и поступила в аспирантуру института онкологии.
– У вас в трудовой книжке одна запись?
– Да. Я всю свою жизнь не меняла адреса, мужа и работу.
– Что повлияло на окончательный выбор специализации, почему именно эндокринология?

– Я защитила диссертацию на тему «Влияние комбинированного применения экстракта из корня элеутерококка колючего и алкилирующих соединений на рост и метастазирование опухоли ССК у крыс», и в какой-то момент мне стало скучно только от экспериментальной работы. Я жила в семье врачей-клиницистов, и именно такой мне всегда представлялась настоящая медицина. А клиническая эндокринология, как направление, тогда только зарождалась. У Владимира Михайловича Дильмана, руководителя вновь созданной лаборатории эндокринологии, как раз были места. И мне сказали: иди к нему, тебе там будет интересно. Я начала работать. Клиника, как и вся работа в этой лаборатории, и правда очень меня увлекли.
– Получается, в эндокринологию вы пошли за клинической деятельностью? Наука показалась слишком сухой?
– Сказать «сухой» будет неправильно, всё-таки то, как я её видела и как я ею занималась – это свойства только моего характера. На самом деле я продолжала заниматься наукой и в эксперименте, и в клинике, участвуя в исследованиях роли гормонов в онтогенезе и в развитии и лечении опухолей. Владимир Михайлович Дильман – выдающийся ученый, по своим научным идеям значительно опережавший свое время. Поэтому все, чем мы занимались в лаборатории: исследование регуляторных закономерностей в эндокринной системе, применение результатов этих исследований в клинике, налаживание биохимических (и в то время очень трудоемких) методов определения уровня гормонов в биологических жидкостях – всё это, конечно, была наука.
– Какой областью эндокринологии вы занимались?

Владимир Михайлович Дильман
– Изначально, да и в определенном отношении до наших дней, проводимые мной исследования касались репродуктивной системы. Начинали с того, что определяли гормоны в крови и в моче. Сейчас эти методики стали автоматическими, а тогда мы сидели и трясли пробирки с эфиром. Сначала я занималась исследованием гормонального фона пациентов с опухолями молочной железы, определением уровня стероидных гормонов у пациентов на фоне лечения и, в частности, гормонотерапии. Затем первыми в институте мы наладили исследование уровня рецепторов стероидных гормонов радиолигандным методом и на протяжении длительного времени давали заключение по гормонозависимости опухолей молочной железы. Сейчас эти исследования проводят методами иммуногистохииии. Также мы попытались разработать другие методы, позволяющие оценивать гормонозависимость опухолей молочной железы.
Я участвовала также в исследованиях гормонального фона при развитии и терапии рака простаты, рака тела матки и рака яичников.
На протяжении длительного времени занимаюсь гормональными нарушениями, возникающими в результате специфического противоопухолевого лечения (в частности когда это лечение проводится в детском возрасте), а также метаболической реабилитацией онкологических больных, проведением супрессивной и заместительной гормонотерапии пациентов, прооперированных по поводу рака щитовидной железы.
Возвращаясь к началу моей работы в лаборатории эндокринологии, надо сказать, что мне очень помогла стажировка во Франции, где я занималась изучением широкого спектра стероидных гормонов, вырабатываемых в яичниках, с использованием более совершенных на тот момент методов.
– Как вам удалось в то время попасть во Францию? Это было непросто?

– Это был ноябрь 1968 года – «хвост» оттепели. У института имелись хорошие международные контакты. Хотя это действительно было сложно – меня пустили только со второго раза. А к кому и куда ехать, мы выбирали сами в зависимости от научных интересов. Я немного знала французский, поэтому выбрала Францию. Чтобы подтянуть язык, нашла репетитора – Юрия Ивановича Орохаватского – бывшего артиста балета, очень своеобразного юношу, и мы с ним читали стихи – разумеется, по-французски. По-настоящему я освоила язык уже во Франции, так как вся работа и все общение было только на французском.
В Париже я стажировалась в лаборатории биохимии при медицинском факультете на улице Святых отцов, которой руководил профессор Max Fernand Jayle. Одновременно в качестве вольнослушателя ходила в клинику Cochin на эндокринные консультации профессора Henri Bricaire. Во Франции я провела год: вдали от мужа, семьи – приезжать ко мне было нельзя. А я боялась прервать обучение, приехать в СССР, потому что обратно могли уже не отпустить. Но в лаборатории у нас была хорошая и дружная компания, я выучила французский и до сих пор поддерживаю отношения с теми, кто ещё остался жив.
– Пригодился ли французский язык в дальнейшей работе?
– По возвращению в СССР я много занималась синхронным медицинским переводом на различных мероприятиях, конгрессах. Так как я понимала, о чём идёт речь, мне не нужно было переводить слово в слово – я могла сама построить текст для того, чтобы передать смысл.
– А когда вы начали принимать первых пациентов?
– Сначала я помогала Владимиру Михайловичу Дильману. Занималась и гормонами, и гормонотерапией, и смотрела больных на отделении и амбулаторно – приём в поликлинике был один раз в неделю, а в остальные дни пациенты приходили прямо сюда, в лабораторию. Через некоторое время Владимир Михайлович стал меньше принимать в поликлинике, и я стала замещать его на приемах.
Мне всегда нравилось общение с пациентами. Для меня до сих пор важно иметь возможность не только вылечить, но и успокоить человека. Главное – это не быть в неврозе. Нервничать очень вредно, ведь в организме происходит масса изменений при стрессе.
– Насколько сложнее было ставить диагнозы до появления современной медицинской техники?
– Был опыт, была своя система диагностики – руки вполне помогали с этим справиться. Например, чтобы выявить образования щитовидной железы, мы пальцами проводили пальпацию шеи, проверяли, смещается ли конкретный узел или нет, как он связан с кожей и так далее.
Конечно, были моменты, когда казалось, что узел доброкачественный, хотя на самом деле это было не так. В щитовидной железе опухоли развиваются довольно медленно, но есть и низкодифференцированные – очень злокачественные, и были пациенты, которые весьма неожиданно для нас имели не очень благоприятный исход.
– УЗИ, наверное, показалось чудом? Такое облегчение и помощь в работе…

– Конечно! Его начали внедрять только к 70–80-м годам. Но зато сейчас мы видим маленькие узелки по 5–6 мм и сразу же начинаем их проверять. Не только УЗИ играет роль – важны и другие методы обследования – МРТ, КТ и, конечно, цитологические исследования, которые были отлично разработаны в нашем институте.
– С какими трудностями или недопониманием приходится сталкиваться?
– Любая врачебная работа имеет свои проблемы и трудности. Что трудно в работе эндокринолога – понять, что происходит с пациентом, не пропустить невидимую с первого взгляда патологию, найти правильное решение для лечения. В сложных ситуациях на каждом этапе вы волнуетесь, сомневаетесь, кажется, что вы неправы… И до сих пор так, потому что это сложно: вы можете иметь дело с узелком в щитовидной железе, а он может оказаться частью синдрома множественной эндокринной неоплазии, где сочетаются опухоли щитовидной железы, надпочечников, паращитовидных желез и изменения в костях. Поэтому здесь ни в коем случае нельзя быть легкомысленным и судить по первому впечатлению.
– Можете ли вы за 60 лет оценить развитие эндокринологии?
– Рывок был сделан очень большой: эндокринология во многом развивалась на наших глазах. С оценки функции гипофиза, яичников и надпочечников, с определения уровня гормонов в моче и крови мы перешли изучению регуляторных взаимоотношений в эндокринной системе. Постепенно, помимо изначально известных, было открыто большое число гормонов, вырабатываемых в различных тканях. Действие этих соединений необходимо учитывать и в развитии организма, и при патологических процессах. Конечно, современные методы диагностики – УЗИ, данные цитологии, возможности гистологического анализа, генетические исследования, выявляющие определенные мутации, и другие высокотехнологические методы помогают врачу поставить диагноз и выбрать адекватный метод лечения. Но иногда всё же задумываешься – как же раньше было просто – пощупал и всё! А теперь весь в сомнениях…
– Евгения Владимировна, что бы вы пожелали тем, кто только начал свой путь в профессии врача?
– Главное – это делать своё дело с интересом и любить то, чем занимаешься. Это касается не только врачей: каждому человеку важно быть довольным тем путём, который он выбрал.
Беседовала Дарья Волошина